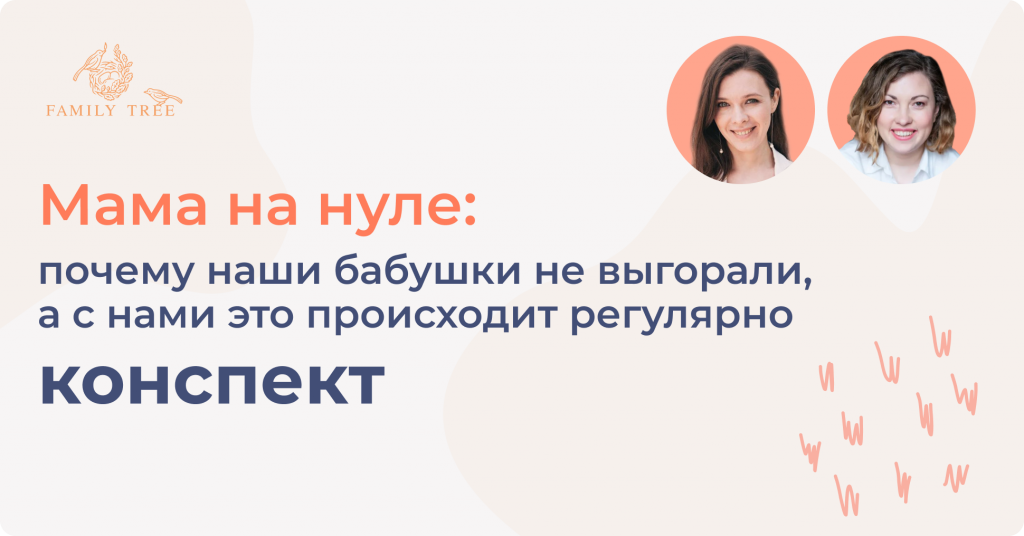Маша Рупасова: Мы не должны их защищать от своей искренней реакции
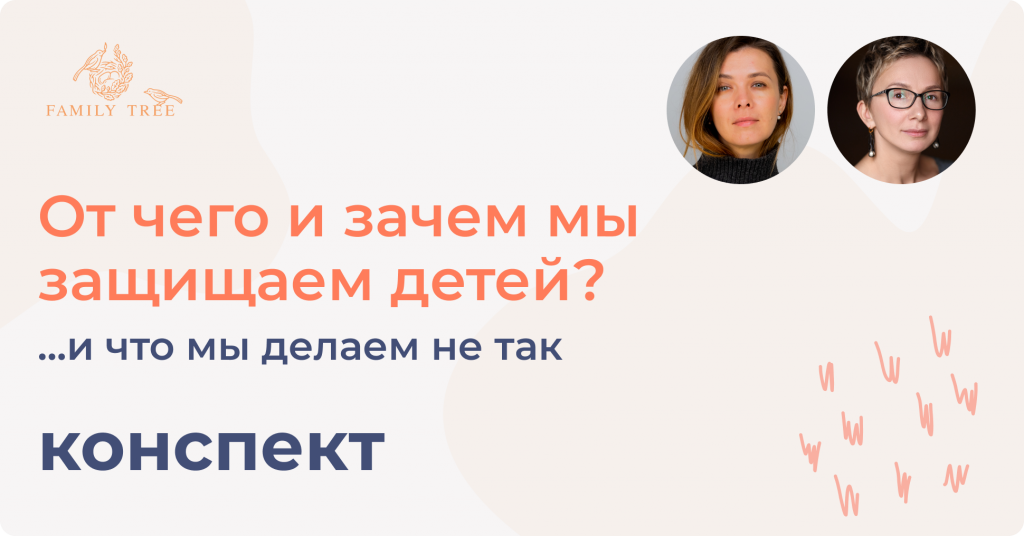
Эфир провела основатель Family Тree, коуч Анастасия Изюмская.
Защищаем детей. От чего?
Анастасия Изюмская: Перед грядущим Днем защиты детей мы решили поговорить с людьми, которые детей любят и, кажется, разбираются в них лучше большинства. Маша, как тебе кажется, от чего же надо защищать детей?
Маша Рупасова: Раньше в интервью, посвященных Дню защиты детей, я говорила, что мы должны защищать не только детей, но и родителей, потому что ноша родителей становится все тяжелее и тяжелее и требования к родителям становятся все выше и выше. А детям живется более или менее неплохо, потому что мы старательно блокируем удары, которые реальность пытается им наносить. Мы стараемся остановить этот цикл насилия. Сейчас мне кажется, что нам придется опять защищать детей от многих вещей: от чувства физической небезопасности, от того, что гибнут их ровесники.
А.И.: Ты с сыном про это говоришь?
М.Р.: Конечно! Максон не знает каких-то особенных подробностей, потому что он чувствительный мальчик, очень эмпатичный, все переносит на себя. Он понимает, что идет война, и через нас понимает, насколько это все ужасно.
Первый месяц я даже не помню, как он себя чувствовал. Мне было настолько плохо, что не удалось его защитить ни от себя, ни от действительности. Я сосредоточилась на своих переживаниях. Он, конечно, боится. Ему стала сниться ядерная война. Они в школе обсуждают бомбоубежища.
У меня ощущение, что круг замкнулся. Я сама в детстве очень боялась ядерной войны. Когда мне было 11 лет, я ее бояться перестала, потому что началась Перестройка, прилетела Саманта Смит, Горбачев появился. В телевизоре и в радио перестали нагнетать тему, что, мол, мы-то за мир, но по нам скоро нанесут ядерный удар. Сейчас моему ребенку 11, и ему снится ядерный взрыв, в котором гибнет все, кроме его школы. Он говорит: «Представляешь, школа осталась, и мне опять туда надо идти!» И я в отчаянии думаю: прошло тридцать с лишним лет, я уехала на другой конец Земли, и все равно моему сыну снится все то же, что снилось мне.
Защищаем детей. Как?
А.И.: Можно ли от этого защитить, как ты говоришь, создавая чувство физической безопасности?
М.Р.: Как сказать… Мне не удалось. Меня эта ситуация в мире застала настолько врасплох, что я не успела собраться и защитить ребенка хотя бы от своей собственной реакции. Я не могу сказать, что я колотилась в истерике и рыдала при нем, но он видел, насколько я подавлена, насколько я разрушена. Я не вылезала из новостей, и все разговоры у нас в семье велись только об Украине и о роли России. В первый месяц мне не удалось его защитить.
Потом я все же переформатировалась под другую реальность и начала защищать его всеми методами, которые советуют психологи. В том числе ваши психологи. Поддерживала рутину. Снизила требования максимально к себе и к нему. Много обнимала. Мало заставляла. И сейчас он более или менее. Не знаю, мои ли усилия помогли или просто психика адаптируется к любым условиям.
А.И.: От чего еще нам, на твой взгляд, в нынешней повестке надо детей оберегать? Как создать это ощущение, что мы есть, мы живем?
М.Р.: Мне кажется, что перед родителями, особенно перед украинскими и перед теми, кто имеет отношение к России, стоят сложные задачи. На мой взгляд, украинским родителям будет легче, потому что они не виноваты ни в чем. А что делать нам, российским родителям, это большой вопрос. Как мы будем защищать детей от этого чувства вины… Нас ждет очень сложное время, когда мы должны будем защитить то, за что мы любим Россию, от всего остального. Я вижу по своему ребенку. Он русскоязычный, хотя родной язык у него английский. С одной стороны, он пишет в эссе, что он гордится тем, что говорит на русском. С другой стороны, он говорит: «Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я говорю по-русски».
Я ответила: «Я тебе как бывший учитель могу сказать, что здесь мысль не раскрыта, тебе имеет смысл объяснить, почему ты не хочешь, чтобы люди это знали». И он начал плакать. Он сказал: «Я не могу это объяснять, мне стыдно». Я думаю, придется защищать людей от этого стыда и от своей беспомощности. И я даже не знаю, как, если честно. Сейчас такой период, что нам придется методы защиты изобретать на ходу, на коленке. Мы не были никогда в такой ситуации, когда нашим детям стыдно. И дети ни в чем не виноваты, это очевидно. Так что у меня здесь вопросы есть, а ответов пока нет.
Защищаем от вины или стыда?
А.И.: Виталий Сонькин, психотерапевт, который как раз недавно выпустил книгу «Вина», говорит, что способность испытывать чувство вины свидетельствует о том, что у человека есть совесть. То есть базово, этически с ним все в порядке.
М.Р.: Мне кажется, вину чувствуем мы, взрослые, а дети все-таки чувствуют стыд. Это довольно токсичная вещь, особенно для ребенка, и им никуда не деться от того, что они русскоязычные. Что-то придется придумывать с этим стыдом, чтобы искать баланс между коллективной виной и личной ответственностью. Я оказалась совершенно к этому не готова.
А.И.: Одно из первых упражнений, которое мы предлагаем в проекте «Круг поддержки», называется «круг ответственности». Рисуешь кружочек, и то, что внутри круга, — это то, на что ты конкретно влияешь. Снаружи все то, на что ты не влияешь. Когда мы сами понимаем, где заканчивается наша ответственность за происходящее, становится проще объяснять детям, что мы часть этого огромного явления под названием «русский мир». С другой стороны, не все от нас зависит.
М.Р.: Плюс-минус интуитивно я все это понимала. И мы с ребенком это обсуждали и пытались понять, что мы со своей стороны можем сделать. Сын в школе раздавал стикеры в поддержку Украины, раскрашивал камни в цвета украинского флага и раскладывал по округе. Я ему разрешила использовать на камнях хэштэг #fuckputin, и он был совершенно счастлив от такой возможности протеста. Что-то конечно делается, но я боюсь этого поля, которое возникнет потом на основе понятия «русский мир».
Я ни разу не сталкивалась с проявлением русофобии, но мне кажется, еще долго будет фонить вот эта радиация. Очень у меня душа болит за российских детей и, безусловно, за украинских, потому что они переживают сейчас катастрофу, сравнимую с катастрофой Великой Отечественной.
От чего-то все-таки не надо защищать?
А.И.: А от чего, напротив, мы не должны защищать своих детей?
М.Р.: Я думаю, что мы не должны их защищать от своей искренней реакции. Возможно, ее имеет смысл фильтровать, чтобы особенно чувствительного ребенка не травмировать. Мне кажется, что от ребенка нет смысла скрывать происходящее, особенно, если это ребенок в более или менее сознательном возрасте, от 9 лет и старше. Малышей, конечно, имеет смысл беречь. У них психика еще настолько хрупкая, что не выдержит.
У меня появились новая знакомая девочка из Украины. Прекрасная, нежная, она убегала со своим 4-летним ребенком из-под обстрелов. Я спросила: «Как ребенок?» Она ответила: «Я ему придумала сказку, что мы прячемся от урагана, и объяснила, что мы должны уезжать, потому что мы очень легкие и нас ветер может подхватить и унести. А бабушка и дедушка тяжелые и могут остаться». Мне кажется, малышей такими сказками можно пока еще утешать. А детям постарше уже можно показывать свою реакцию. Ведь у нас нет ничего другого кроме реальности и нашей реакции на эту реальность. Родители в шоке, родители в панике, родители переживают, потом собираются в кучку и начинают действовать.
Как описать происходящее?
А.И.: Кроме политических эссе, которые ты пишешь в фейсбуке, пишется ли тебе что-то еще?
М.Р.: Совершенно нет. У меня ощущение, что мне придется переизобретать язык, чтобы описывать новую реальность. Есть две книги, которые я уже не написала, у меня на них подписаны договора. И сейчас я должна перевести для российского рынка книгу об инвестициях, но это очень странно. Это надо иметь совершенно фантастический оптимизм, чтобы рассказывать детям об инвестициях в этой ситуации. Я совершенно не могу найти в себе этот оптимизм, а время тикает, надо сдавать переводы.
Я сейчас нахожусь в процессе пересоздания этого языка, переосмысления всего происходящего, и мне просто нужно понять, какая миссия у меня будет дальше. Я уверена, что я и дальше смогу писать совершенно мирные хорошие правильные стихи, сказки и психологические книги, которые я недавно начала писать для детей. Но мне просто нужно найти миссию, связанную с тем, что мир изменился.
Мне очень хочется понять, что русскоязычные писатели смогут сделать, чтобы война и человеческие переживания были описаны так, чтобы это уже не повторилось. Я понимаю, что стороны будут взаимно друг друга сдерживать путем вооружения, но мне кажется, что гуманитарии должны с другой стороны подключиться. Нужно что-то такое придумать, по-другому научиться описывать войну. Потому что как было, к сожалению, не сработало. Я занимаюсь этими размышлениями, хотя со стороны выглядит, что я тупо сижу и смотрю в окно.
Мне одна женщина написала: я покупала племяннику ваши книги, а сейчас пойду их выкину, чтобы он случайно не запомнил вашу фамилию. У вас в следующих книгах появится пропаганда за Украину, про феминизм и ЛГБТ…
А.И.: Мы достигли такого уровня технологий, науки, понимания природы человека и природы мира вообще, которая никогда не была доступна человечеству раньше. И продолжаем друг друга убивать довольно примитивно. Знакомый психоаналитик ответила мне, что это остановится только лет через триста, потому что еще много войны внутри нас. Как ты формулировала свою миссию до и про что она должна быть сейчас?
М.Р.: Полезно разговаривать, а не молчать. В первые два месяца я замкнулась, а когда разговариваешь, то полезные мысли проговариваешь внезапно для себя. Моя тогдашняя миссия развивалась в двух направлениях. Во-первых, мне просто хотелось рассказывать о детстве, веселиться и дурачиться, говорить с детьми, становится частью детства. Это меня радовало, потому что я люблю детей. Я иногда говорю, что мое развитие остановилось на уровне семи лет, когда любят играть в ролевые игры.
Во-вторых, когда я написала книжек примерно двадцать, я вдруг поняла из наблюдений за канадской школой, за канадским населением и своей собственной многолетней психотерапией, что моей миссией может быть в игровой форме помогать детям становиться психологически компетентными, становиться экспертами в области самих себя. Я пару лет носилась с идеей, что детей в школе надо учить самим себе в первую очередь, а потом мы с издательством «Альпина Дети» придумали серию по софтскиллс, которая эту психологическую компетентность воспитывает в детях в легкой форме. Это была не энциклопедия. Это была история, где дети летят в космос, у них есть учитель — дяденька психоаналитического, хипстерского типа. Дети обсуждают и прорабатывают разные темы: тревожность, страх ошибиться. Сейчас мы поговорили, и мне кажется, что нужно продолжать тему с психологической компетентностью, потому что чем ты экспертнее в своей области, тем меньше у тебя внутренней войны. И возможно, этот 300-летний срок станет короче лет на пять.
Когда детей усыновляют, родителей хотя бы обследует психиатр. Но когда ты становишься президентом страны, такое обследование должно быть обязательным. Такой человек обязательно должен ходить на психотерапию, у него должен был супервизор. Нельзя оказываться внутри чужого бреда, где мы сейчас все оказались.
А.И.: Научно доказанный факт, что у людей, которые долгое время находятся у власти, мозг меняется, особенно если эта власть неограниченная. Это касается не только политиков и лидеров стран. Это касается и лидеров крупных корпораций.
М.Р.: У меня к Путину еще и личная претензия — из-за моей психологической серии… Вышло уже две книги из восьми, я страшно радовалась отзывам. Психологи покупали эти книжки своим детям, и выяснилось, что я использовала методы поведенческой терапии. Специалисты говорили, что это действительно помогает детям. У меня там 303-й класс Z летит в космосе. Теперь придется менять эту букву. Люди пишут, что книжка хорошая, но от Z потряхивает. Поменяем.
Защищать детей от книг?
А.И.: Были ли у тебя в детстве книжки, которые от тебя родители прятали?
М.Р.: Нет, у нас все стояло в свободном доступе. Родители работали, а я приходила из школы днем и читала все подряд. У нас была классическая семья технической интеллигенции с книжными шкафами. Я читала все подряд. Какие-то книжки мне не стоило читать, но я помалкивала. Читала даже самые убогие производственные романы про плавильные печи.
А.И.: У вас дома сейчас есть какие-то книжки, которые пока ребенку не доступны?
М.Р.: Мы пользуемся в основном электронными читалками, поэтому у нас в доме гораздо меньше книг. Сын может читать все что угодно. Но я бы не сказала, что он сильно стремится. У нас специально для чтения выделен так называемый тихий час. Слишком большая конкуренция у чтения с Netflix, Disney, Apple TV. Книжкам сложно конкурировать с такими титанами, поэтому у нас это добровольно-принудительно сейчас.
А.И.: Какие книги сейчас читаются по-другому?
М.Р.: Мне кажется, все. Я думаю, что все книги о войне сейчас будут читаться иначе. Я в детстве любила читать «Четыре танкиста и собака», где все наши были хорошие, а все их были плохие. А после мартовско-апрельских событий кажется, что книжки о войне надо переписывать все.
Защищать от истории?
А.И.: Не кажется ли тебе, что тот однозначно героический образ, который создавался и утрировался в последнее время, — это важная символическая часть происходящего?
М.Р.: Согласна абсолютно. Я думаю, что пропаганда очень сильно постаралась, когда они стали раздувать Победу в ущерб Памяти. Все-таки изначально это был больше День памяти, и его участники помнили, какой ценой эта Победа далась.
Почему-то я следила за этим, когда еще не понимала, куда всё движется. Возможно, я начала следить за этим из-за детей. Я видела, как убирается Память, как раздувается понятие Победы и как оно трансформируется в войну.
А.И.: Надо ли нам детей защищать от исторического забвения, которое мы сейчас наблюдаем? От того, как воспоминания о том, что было в середине прошлого века, плавится и превращается во что-то противоположное?
М.Р.: Мне кажется, что сейчас будет не до этого, потому что мы должны будем перерабатывать последние события… Я думаю, что сейчас Победа и горе будут очень честно и плотно связаны в сознании украинцев. А нам достанется все остальное. Мне кажется, что здесь не будет у нас вариантов. Не сможем мы отвернуться от реальности, и не нужно будет детей от нее защищать. Придется говорить эту правду так, чтобы она детей не разрушала. Не нужно защищать детей от этой правды, иначе есть большой шанс, что всё повторится.
А.И.: Многие сейчас обращаются к опыту Германии, того, как немцы переосмысляли, переживали произошедшее с ними как с обществом и как со страной. Не обращался ли твой взгляд туда, в сторону немецких гуманистов, писателей поствоенных?
М.Р.: Я думала про Германию, но у меня ощущение, что у нас все будет по-другому, потому что в России всегда все происходит по-другому, наверное, в силу невероятной протяженности. Если она вообще сохранится… Россия.
Мы — герои странного романа
А.И.: Кажется, что мы сами оказались не то в книжке Оруэлла, когда война — это мир, а ограничения — это свобода. Не то в книжке Кафки, когда становится возможным нечто прежде недопустимо чудовищное. Как ты как человек и мать переживаешь то, что стала героем романа?
М.Р. Мне очень тяжело принять свое бессилие. Понятно, что это не полное бессилие. Какие-то действия я предпринимаю. Когда я пришла на свою первую психотерапию, мне было 30 лет. Тогда психотерапевт мне сказала, что самое тяжелое переживание для человека — это бессилие. Я ответила: «А что в нем такого? Ну не можешь и не можешь». А она сказала коварно: «А вы попробуйте». И вот сейчас я пробую переживать это бессилие. Это очень и очень неприятно. Какое-то время я говорила со своими здешними друзьями, что если бы я могла жизнь отдать за то, чтобы это прекратилось, я бы отдала не задумываясь. Но, к сожалению, такой обмен даже не рассматривается.
Наверное, это в каком-то смысле здоровая ситуация, когда ты признаешь свои ограничения и видишь свою скромную роль в историческом процессе. Но такое признание дается тяжело. Я понимаю, что остаюсь на своем месте и должна делать то, что я могу делать: вкладываться в головы детей, которые через двадцать лет придут в политику, во взрослую жизнь. Пусть они будут хотя бы компетентны сами в себе, пусть отдают себе отчет в своих собственных действиях, в своих мотивах, будут чуть-чуть менее травмированы, чем сейчас наше правительство. Вот так вот я справляюсь в этом кафкианском мире.
Беспомощность полезна?
А.И.: Ты говоришь, что полезно проживать беспомощность. В чем польза этого простого переживания?
М.Р.: Мне просто кажется, что любая встреча с реальностью и с тем, кто ты по-настоящему в этой реальности, полезна тем, что ты из мира фантазий и иллюзий переселяешься в то, что есть на самом деле. А что есть? Я, взрослая женщина, готова жизнь отдать, чтобы прекратилась война и чтобы перестали убивать детей. Но эта жизнь никому не нужна на таких условиях. А могу я только писать книжки. Когда ты понимаешь, что можешь только писать книжки и заботиться о своей семье, ты сосредотачиваешься на том, что можешь. Это круг ответственности. Это горькая здоровая пилюля.
А.И.: В первый раз мы повзрослели, когда у нас появились дети. Второй раз мы повзрослели сейчас.
М.Р. Я тоже про это думаю. Права я была, когда я говорила своему Максону: «Ты не смотри на взрослых людей, что они такие огромные, большинство из них идиоты, поэтому всегда фильтруй, что тебе говорят, пропускай через свою голову, анализируй, давай оценку и только потом выполняй». Видимо, я развивала в нем критическое мышление.
Вопросы от слушателей
А.И.: Вопросы от слушателей. Елена очень ждет стихов для подростков.
Мне очень хочется писать для подростков, но мне кажется, что это сложная аудитория. Я еще не встречала хороших стихов для подростков, возможно потому, что у меня ребенок еще маленький. Они непонятные люди. Уже не дети, еще не взрослые. Для меня это хороший челлендж. Мне кажется, подростки берут и стихи, и музыку в том, что они слушают.
Я знаете почему еще не пишу подростковых стихов? Для меня самой подростковый возраст был таким сложным, что я себя как-то не запомнила. Помню только смятение и ужас. Их сложно написать. Не было тогда словаря для написания вот этого.
А.И.: Ирина спрашивает про твое волшебное чувство юмора. Спасаешься ли ты им сейчас и откуда оно у тебя?
М.Р.: Я спасаюсь им сейчас. В мае оно ко мне вернулось, и я начала шутить на всякие политические темы. У меня есть Твиттер. Я его использую как копилку мемов. Сарказм, ирония очень спасают. Последние лет 5-10 в публичном пространстве я очень сдерживала свое чувство юмора. В какой-то момент меня стало раздражать, что меня воспринимают немножко как Петросяна, люди приходили посмеяться. Я стала это сдерживать. А сейчас я это чувство расчехлила, по крайней мере для домашнего использования. И это дает силы. Мне сначала было неловко, что я в такой момент позволяю себе смеяться, а потом я прочитала, что еврейские узники спасались юмором. И я решила не стесняться.
А откуда оно… У меня вся семья с чувством юмора. Бабушка моя любила посмеяться. У папы отличное чувство юмора. Мне просто повезло. И у ребенка сейчас прекрасное чувство юмора, наконец-то.
А.И.: Спасибо за то дело, которое ты делаешь, несмотря на то что ты считаешь его совсем скромным. Кажется, в какой-то перспективе это будет настоящее дело — двигать мир в сторону будущего, в котором нет войны. И не надо будет никого ни от чего защищать.
М.Р.: И я надеюсь. Мира нам всем.